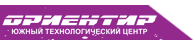В БОРЬБЕ ЗА ГРАМОТНОСТЬ
В борьбе за грамотность - Новинки литературы - "Мастер"
"Мастер"
Книга: "Мастер"
Писатель: Тойбин Колм
Роман «Мастер» — это художественная попытка понять внутреннюю жизнь англо-американского писателя Генри Джеймса. Колм Тойбин начинает свой рассказ с событий, разворачивающихся в Лондоне в 1895 году, когда пьеса Джеймса «Гай Домвилль» была освистана прямо на премьере и надежды на успех в театре рухнули. А прощается автор со своим героем в 1899 году в Лэмб-Хаусе, его горячо любимом доме в приморском английском городке Рае, где он создает несколько шедевров. Находясь в уединении, он переосмысливает весь свой жизненный путь: как вышло, что он отказался от общества возлюбленной больной сестры, как сделал выбор покинуть родину и жить вдали от семьи, как между ним и близким другом возникла стена отчуждения, как он стал одиночкой с проблемами с сексуальной самоидентификацией; размышляет о том, как проводит дни в доме, населенном одними слугами, как ходит каждый день к стенографу надиктовывать свои произведения. Произведения, в которых как раз и находит свое отражение его многослойный многолетний внутренний конфликт, его тонкая, сопереживающая душа, едва уловимые движения его сокрытого ото всех мира. «Мастер» — это портрет одной творческой жизни, роман, в котором слышны отголоски слога самого этого мастера.
За это произведение Колм Тойбин получил Дублинскую премию.
В ожидании выхода романа на русском языке представляем вашему вниманию несколько отрывков из этого произведения в переводе ИГОРЯ УШКАЛОВА.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Февраль 1895 года
После провала «Гая Домвилля» его решительный настрой работать осаждало чувство, что он повержен и беззащитен. Он понимал, что ему не удалось впечатлить огромную невежественную толпу, и теперь ему приходилось свыкаться с печальным фактом, что ничего из написанного им не будет популярно и вообще оценено. Если он пытался, то мог почти все время контролировать свои мысли. Что он не мог контролировать, так это ужасную боль по утрам, боль, которая усиливалась к полудню и часто не проходила. В пьесе Оскара Уайльда, которую он любил, задавался вопрос — печаль лондонцев вызывала туман или туман порождал печаль? Хотя скудный свет зимнего утра проникал в его окно, он считал, что его печаль была как лондонский туман. Кроме него, казалось, ничего не рассеивалось. И все это сопровождалось усталостью, которая была чем-то новым для него, и вялостью, которая его раздражала и угнетала.
<...>
Ему было важно, как его воспринимали: он пальцем не пошевелил, чтобы сделать свои произведения популярными, как ему хотелось; он в уединении с самоотверженным рвением предавался благородному творчеству, которое приносило ему удовлетворение. Он осознал тем не менее, что отсутствие успеха — одно, а жалкая неудача — другое. Поэтому из-за фиаско в театре, столь публичного, столь известного и столь явного, ему теперь было не по себе в обществе, он не мог себе многого позволить в лондонском свете. Он чувствовал себя как генерал, вернувшийся с поля битвы, от которого исходит запах поражения и чье присутствие в ярко освещенных лондонских гостиных казалось бы неуместным.
<...>
Ему нужно было уехать из Лондона, но он не думал, что сможет вынести где-нибудь одиночество. Он не хотел обсуждать свою пьесу и не думал, что сможет работать. Он решил, что если уедет куда-нибудь, то, когда вернется, все будет иначе. Им овладевали грезы и замыслы. Он молился и надеялся, что сумеет выплеснуть на страницы все то, что наполняло его воображение. Это все, чего он хотел, все, о чем он думал.
<...>
Два дня спустя он совершил поездку из Дублинского замка в Королевский госпиталь Килмэйнхэм через город. Он бывал в Ирландии прежде – однажды путешествовал из Квинстауна в Корке в Дублин и по пути ненадолго останавливался в Кингстауне. Ему понравился Кингстаун: свет моря, чувство тишины и спокойствия. Но эта поездка напоминала ему путешествие через страну, погрязшую в крайнем и вездесущем убожестве. <...>
<...> Сейчас, когда служебный экипаж вез его из замка в Королевский госпиталь, он больше чем что-либо замечал сердитые лица ирландцев. Он пытался отводить от них свой взгляд, но у него не получалось. Последние несколько улиц были для него слишком узкими, чтобы не замечать бедность в лицах и зданиях и не чувствовать, что в любой момент дорогу могли преградить назойливые женщины и дети. <...>
Ему стало легче, когда экипаж выехал на дорогу к Королевскому госпиталю, его поразили величественность этого здания, чувство грации и симметрии и декорум на территории. Он улыбнулся сам себе при мысли, что он будто бы входит в Царство Небесное после сурового путешествия по преисподней. Даже персонал, который вышел его приветствовать и взять его багаж, выглядел необычно, богообразно. Он почувствовал, что ему следует потребовать, чтобы они заперли ворота и уберегали его от новых встреч с городской бедностью, пока те не стали бы совершенно неизбежными.
<...>
Из его комнаты открывался вид на реку и парк. Утром, когда он рано вставал, над лужайками стоял белый туман. Он засыпал снова, глубоко и мирно, а будило его присутствие того, кто, крадучись на цыпочках в тени, входил в его комнату.
<...>
Генри попросил набрать ванну сразу и подать завтрак в свою комнату. Он поинтересовался, как бы ее милость отнеслась к тому, если бы он до ланча не появился, и предположил, что мог бы потребовать время на свое творчество и тем самым получить разрешение на уединение. Надежды на одиночество этим утром, вид из окна и прекрасные размеры комнаты, рассчитанной на несколько человек, наполняли его счастьем.
<...>
Его мучила мысль, что он тоскует сейчас больше, чем когда-либо прежде, тоскует по кому-то, желая удержать этого некто, не говорить и даже не гулять, а просто обнять его, остаться с ним наедине. Он нуждался в этом прямо сейчас и, заставив себя произнести это вслух, сделал потребность еще более острой, насущной и еще более невозможной.
Поздним утром следующего дня он сидел у окна, смотря на чистое голубое небо над Лиффи. Это был еще один морозный день, поэтому он удивился, увидев маленькую Мону на лужайке без присмотра и с непокрытой головой. Он сам совершил раннюю прогулку и теперь рад был находиться в доме. Он заметил, что девочка расправила свои руки и начала кружиться; лужайка была широкая, и он глазами искал ее няню или маму.
Он подумал, что если бы кто-то увидел ее сейчас, то почувствовал бы то же самое, что и он. Ее нужно спасти — слишком обширна, слишком необозрима земля вокруг нее. Ужасно, что она, такая беззащитная, совсем одна здесь этим холодным мартовским утром. Она кружилась почти в центре лужайки, потом сделала полукруг и остановилась и пошла одной ей ведомой дорогой. Он заметил, что ее пальто было расстегнуто. Когда спаситель так и не пришел, чтобы забрать ее в дом, он вообразил себе кого-то, в полумраке наблюдающего за ней или возникающего из этой полутьмы. Неожиданно она остановилась, она стояла неподвижно, смотря ему прямо в лицо. Он видел, как она дрожала от холода. Потом она сделала какой-то жест и покачала головой. Он понял, что девочка безмолвно разговаривала с кем-то в другом окне, по-видимому, с мамой или няней. Но вскоре перестала двигаться — осталась одиноко стоять на лужайке.
Безжизненность, безучастность ее долгого пристального взгляда завладели его вниманием. В своей неподвижности он казалась испуганной и уступчивой. Он не мог представить себе, что ее собеседник в окне показывал ей.
<...>
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Апрель 1895 года
Одним вечером он ехал в грохочущей извозчичьей карете на обед, и в это время ему в голову пришла идея повести о странной и глубокой привязанности между осиротелыми братом и сестрой. Он не сразу нарисовал в своем воображении портрет этой пары и не сразу представил себе обстоятельства их жизни. То, что пришло ему в голову, было весьма неопределенным и едва достаточным, чтобы сделать кое-какие записи в блокноте. Брат и сестра испытывали взаимное сочувствие и нежность, они могли считывать чувства и порывы друг друга. Однако они не манипулировали друг другом; скорее они просто очень хорошо друг друга понимали. Роковая ситуация, подумал он и записал это в своем блокноте без всякого представления о сюжете или хоть каком-нибудь эпизоде, который мог бы проиллюстрировать его идею. Возможно, это чересчур, но идея, в которой был растворен он сам, осталась с ним. Два существа с одинаковой чувствительностью, с одним воображением, возбуждаемым одними и теми же волнениями, одним и тем же страданием. Две жизни, связанные одним опытом. Например, остро воспринятая ими обоими смерть родителей, невосполнимая утрата, неотступно преследуя их в мыслях, вызывала у них почти парализующую боль.
Часто идеи приходили случайно, как в этот раз, когда ничто не предвещало этого; часто они посещали его, когда он был занят совершенно другими делами. Замысел повести о брате и сестре развивался стремительно, не отпуская его, — нужно было только записывать. Впрочем, он ничего бы не забыл. Идея оставалась отчетливой и ясной в его воображении. Постепенно и загадочно она начала сливаться с историей о призраках, которую ему рассказал Архиепископ Кентерберийский. И со временем он начал видеть что-то оформившееся, определенное, как будто процессы воображения — сами были призраками, становившимися все более и более материальными. Он увидел, что брат и сестра, одинокие и покинутые, — изгнанные в нелюбимый старый дом дети, живущие одним умом, одной душой, страдающие в равной мере и одинаково неготовые к суровейшему испытанию, которое они должны пройти.
Однажды замысел стал более цельным, возникшая история со всеми своими ответвлениями и возможность работать над ней вывели его из уныния после неудачи в театре. Его решимость больше работать усилилась теперь. Он снова взялся за перо – перо, которое было свидетелем всех его незабвенных усилий и священных сражений. Он верил, что напишет теперь произведение всей своей жизни. Он был готов начать снова, вернуться к старому высокому искусству литературы с амбициями слишком серьезными и слишком чистыми, чтобы выразить их словами.
<…>
ГЛАВА ПЯТАЯ
Май 1896 года
<...>
Генри любил мягкость красок на пляже неподалеку от Рая1, изменчивый свет, кремовые облака, пересекающие небо как будто с какой-то целью. Он проводил здесь последние несколько лет2, и это лето в частности, ведь он оживал здесь, гулял, полный сил и энергии, пытаясь в виде исключения насладиться днем, не строя никаких планов, он, не переставая, спрашивал себя, о чем он мечтает сейчас, и отвечал, что лишь о том, что находит здесь, – спокойной работе, тихих днях, красивом домике и этом мягком летнем свете. <…>
<...>
Они обедали на террасе и в тишине смотрели на лежащую внизу огромную равнину в блекнущем вечернем свете. Холмс тяжело вздохнул и вытянул ноги, как будто собирался надолго здесь устроиться, чтобы, расслабившись, провести вечер, в то время как Генри мечтал, чтобы прошел еще один час и он смог, извинившись, покинуть террасу. Разговор между ними был отрывистым, потому что они осторожно избегали тем, которые могли вызвать у них разногласия... <...>
Сумерки тянулись, и двое мужчин становились все молчаливее. Генри почувствовал, что никому из них не придет в голову сказать еще хоть слово. Он передвинул свой стул так, что смог рассмотреть Холмса. Он увидел в сумерках глубоко довольного собой человека и почувствовал тихую неприязнь к атмосфере жизнерадостного самодовольства, которая окружала Холмса. <…>
...Генри не знал, когда можно будет его оставить, чтобы не показаться грубым. Холмс прочистил свое горло, как будто хотел начать говорить, но потом остановился. Он вздохнул.
— Время как будто обратилось вспять для меня, — сказал Холмс, поворачиваясь к Генри, чтобы удостовериться, что тот его внимательно слушает. — То лето закончилось, но я, как уже сказал, помню его в совершенстве. — Но в те дни, все — и разговоры и людей — словно окружал огромный занавес. Иногда я чувствовал себя так, будто нахожусь под водой, видя лишь расплывчатые очертания вещей и отчаянно пытаясь всплыть. Я не знаю, что война сделала со мной, знаю только, что выжил. Но я знаю теперь, что страх и шок и храбрость просто слова, и они не говорят нам — нисколько, — что, когда испытываешь их изо дня в день, теряешь часть себя, и, возможно, безвозвратно. После войны я был истощен и знал это; часть моей души, не могу сказать какая, мой образ жизни, мои чувства были парализованы. Никто не понимал, что было не так, даже я сам большую часть времени. Тем летом я хотел все изменить, перестать оглядываться назад. Я хотел вернуться к жизни, окунуться в нее, испить до дна, и у нас был такой шанс, когда рядом были те замечательные сестры. Я страстно хотел быть полным жизни, так же, как желаю этого сейчас. И время помогло мне, помогло мне жить. Когда мне было двадцать один — двадцать два, нормальные чувства высохли во мне, и с тех пор я пытался восполнить это и научиться жить так, как живут другие.
<…> Генри знал, чего Холмсу стоило сказать подобное, и также он знал, что все это было правдой. Они снова замолчали, но тишина была наполнена сожалением и одобрением.
Генри не думал, что мог бы что-то сказать. У него не было своей исповеди. Его борьба была частной, она протекала в пределах его семьи или глубоко внутри него. Ее нельзя было назвать или объяснить, но она привела его именно в то состояние, которое описал Холмс. Иногда его охватывало чувство, что он проживал историю, которая еще не была написана, воплощал образ, который не был полностью очерчен, как будто его жизнь принадлежала кому-то другому.
Он думал, Холмс сказал все, что хотел, он готов был остаться, чтобы отдать должное искренности Холмса и вместе с ним погрузиться в эти мысли. Но со временем он понял, что его гостю еще есть что сказать. Холмс посмотрел ему в лицо и наполнил бокал бренди, как будто ночь должна была быть долгой. Генри ждал. Когда наконец Холмс заговорил, его тон изменился. Он вернулся к своей роли судьи, общественного деятеля, умудренного жизнью мужа.
— Ты знаешь, — сказал Холмс, — «Женский портрет» — великий памятник ей, хотя, должен сказать, я не люблю его конец.
Генри вглядывался в опускающуюся ночь и не отвечал. Он не желал обсуждать конец своего романа, но все же был рад и доволен, что Холмс наконец-то упомянул книгу, о которой никогда прежде не заговаривал.
— Да, — сказал Холмс, — она была очень благородной, и ты, думаю, передал это.
— Я думаю, мы все обожали ее, — сказал Генри.
— Она остается для меня мерилом всего, — сказал Холмс, — и мне бы хотелось, чтобы она была жива сейчас и я мог узнать, что она думала обо мне.
— Да, да, — сказал Генри.
Холмс сделал маленький глоток бренди.
— Ты когда-нибудь сожалеешь, что не взял ее в Италию, когда она была больна? — спросил он. — Грэй говорит, она просила тебя несколько раз.
— Я не думаю, что «просила» — то слово, — сказал Генри. — Она тогда была очень больна. Грэй неправильно все себе представляет.
— Грэй говорит, что она просила тебя, но ты не предложил ей помощь и что зима в Риме могла спасти ее.
— Ничто не могло спасти ее, — сказал Генри.
Генри почувствовал отчетливую неторопливость тона Холмса, его тихую безжалостность; он задумался над тем, что был допрашиваем и судим старым другом без всякого сочувствия или любви.
<...>
— Когда она окончательно поняла, что никто ей не поможет, она отвернула лицо к стене. Она была тогда очень одинока и остановилась на этой идее. Ты был ее кузеном и мог поехать с ней в путешествие. Ты был свободен, фактически ты был уже в Риме. Это ничего бы тебе не стоило.
К тому времени, когда один из них снова заговорил, была уже ночь, и темнота казалась непроглядной и необыкновенно зловещей. Генри сказал слуге, что светильник им не понадобится, потому что они уже готовы удалиться. Холмс потягивал свой напиток, то и дело скрещивая, а потом меняя местами ноги. Генри с трудом мог вспомнить, как добрался до кровати. <...>
Комментарии (0) Добавить