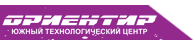Заблудший странник Томаса Манна
№12 (239) от 03-06-2013
Томас Манн в своих публицистических статьях не раз писал о своем бюргерском, то есть буржуазном происхождении, воспитании. Он родился в Любеке, старинном ганзейском городке на Балтийском побережье, в семье владельца крупной хлеботорговой фирмы и одновременно потомственного члена городского совета, учился в лучших гимназиях Германии. Однако не с социально-экономическим положением человека ассоциировалось у писателя понятие «бюргерство». Как отмечают исследователи его творчества, бюргерство для него — это «высокоразвитая духовная стихия жизни, некое суммарное определение европейской гуманистической культуры», которая, так или иначе, не была в период его взросления на периферии общественной жизни, ведь образование было одним из главных столпов буржуазности, но которой бюргерство все-таки не исчерпывалось, оно было многослойнее. Ее бессменными спутниками были такие ценности и идеалы, как капитал, частная собственность, честолюбие, общественное положение, индивидуализм, салоны, гостиные и т. п. Но личностное развитие Томаса Манна, его внутреннее становление шло во многом по принципиально иной траектории, что и обусловило столь специфичное и достаточно узкое понимание им сущности бюргерства, такое глубокое погружение именно в это ее измерение. Его готовили стать продолжателем торгового дела отца, а он всецело отдавался музыке, писанию стихов. Он впитал в себя лучшие традиции, высшие ценности и достижения той культуры, к которой принадлежал сам. Так, например, пересечения с творчеством Льва Толстого, Артура Шопенгауэра, Рихарда Вагнера можно найти в произведениях Манна разных периодов его творчества. Он оставался верен этим художникам всю свою жизнь, несмотря на сиюминутные капризы литературной моды, на отношение к ним современников как к «достоянию музея», страстно «переживал» их творческий опыт из произведения в произведение. Они были для него единственно возможным мерилом истинного, великого, нравственным ориентиром. Классический роман XIX века, «эпический театр Вагнера» стали настолько неотъемлемой частью его культурного багажа, что он инстинктивно пропускал все, что делает, через призму этого духовного наследия позапрошлого века. Именно эпическое мастерство Толстого стало опорой Манна в работе над «сагой» о четырех поколениях одной знатной семьи — Будденброков.
При этом он прочно сжился с уютным, добротным, традиционным старонемецким укладом жизни своего класса. Конечно, этот уклад не был пропитан теми глубинами духа, вокруг которых вращалась внутренняя жизнь писателя, поэтому он не мог довольствоваться исключительно им, раствориться в нем. Такой образ жизни был ориентирован на усредненное, рутинное, приземленное, обыденное существование, но тем не менее Томас Манн видел в нем морально-нравственную чистоту, всяческое благородство и добропорядочность. Это были «корни», дарованные ему еще в детстве, поэтому писатель был так привязан к этому укладу. Он был необходим ему как родной, привычный домашний антураж, без которого невозможно гармоничное, душевно успокоенное, расслабленное существование.
Вскоре по воле времени Томас Манн оказался бессильным свидетелем безысходного конца, гибели бюргерской эпохи, буржуазной культуры, в которой был столь глубоко укоренен, заката эпохи как многовекового периода в истории европейской цивилизации. Свидетелем того, как, казалось бы, незыблемые основы «подтачивались, подвергались нападкам» и в конце концов были низвержены «бродяжничающей молодежью», протестующей против отцовского мироощущения. Но порой казалось, что это время попросту себя изжило и именно поэтому необъяснимым образом безвозвратно «растворилось» в истории. Писатель на себе ощутил такой исход. После смерти отца, Томаса Йоханна Генриха Манна, его семья в один миг утратила свое видное положение, свой вес в обществе, понесла значительные финансовые потери. После зримого и незримого разрушения привычного повседневного образа жизни, «разорения гнезд» аристократов и негоциантов — носителей высокой гуманистической культуры, исчезновения респектабельного и благопристойного буржуазного мира на историческую арену Германии пришли грюндеры — беспринципные дельцы-хищники, а спустя еще несколько десятилетий — нацисты. Томас Манн, который и без того не был типичным представителем заурядных обывателей, в новое время стал для них еще более чужим: будучи продолжателем традиций классической литературы, он выглядел в их глазах слишком неординарным, инаковым, противостоящим общепринятому направлению. После установления в Германии гитлеровской диктатуры писатель был вынужден уехать в США, где стал одним из наиболее активных и деятельных представителей антифашистской эмиграции, продолжая отстаивать и в публичных выступлениях, и в художественных произведениях непреложные человеческие ценности, «веру в духовное божественное начало в человеке», «правду, свободу и право».
Не избежало нападок и духовное наследие бюргерства — со стороны «цыганства — художнического, литературного», новомодных школ, изощрявшихся над новаторскими манифестами и проповедовавших зачастую «чистое искусство» — «искусство для искусства», эпатаж. Именно последние вышли на авансцену и, конечно, не оказали поддержки Томасу Манну, ведь он прочно держался за достояние вчерашнего дня, достояние, которое, по их мнению, было «в плену истории». Но писателю ничего другого и не оставалось: только в этом он мог найти свое единственное пристанище, установить связь с навсегда ушедшим миром, по которому тосковал, в котором видел единственный источник своего развития и вдохновения. Его, в сущности, не могли удовлетворить ни искусственность и «голый» эстетизм одних, ни серость и посредственность других. Подобное взаимное отторжение на двух полюсах одновременно, безусловно, в определенной степени стало причиной одиночества, замкнутости, изоляции — человеческой и творческой. Именно с этой точки зрения крушение бюргерской эпохи воспринято писателем трагично, а «Тонио Крегера» можно назвать его автобиографичным произведением.
Детские годы Тонио Крегера во многом напоминают аналогичный период жизни самого писателя: родной город, дом, социальное происхождение, образы родителей, первые творческие опыты, привязанность к однокласснику, конец идиллического детства — во всем этом прослеживается отчетливое сходство между ними. В новелле уже в данных реалиях, изображенных на первых страницах, обнаруживается обреченность Тонио, невольная, еще неосознанная им самим, с ранних лет в силу строя своей внутренней жизни быть чужим, плыть против течения, жить пренебрегая порядком, складывавшимся столетиями и заложенным в нем самом, обреченность, которая сродни писательской — идти вразрез с господствующим образом мысли. В случае с героем причины такой безысходности формально можно истолковать в популярном тогда натуралистическом ключе — идеей наследственности: его отец — потомственный консул, купец, то есть типичный бюргер, чем и объясняется тяготение Тонио к бюргерской обыденности и банальности, а мать — беспечная, оторванная от всего, что происходит вокруг, от традиций и содержания жизни северонемецких коммерсантов, непохожая на всех остальных чужестранка, ведь, как намекает автор, она — уроженка одной из латиноамериканских стран (кстати, мать писателя, Юлия да Силва Брунс, была коренной бразильянкой, родившейся от брака немца-плантатора и креолки с португальскими корнями), отсюда и неприкаянность героя в окружающем обществе, его «бродяжничество» и блуждания. Это противоречие отражено и в имени персонажа: экзотическое «Тонио», которое, кстати, не принимали в среде его сверстников («Я назвал тебя «Крегер», потому что имя у тебя какое-то ненормальное… я его терпеть не могу. Тонио… Да это вообще не имя», — произнес его школьный друг Ганс Гансен), и вполне типичное немецкое «Крегер». Даже походка у Тонио не прямая, стройная и отточенная, как у его товарищей, а небрежная. Во всем он не совпадал со своим окружением, был ему прямой противоположностью. Поначалу ощущал даже свою ущербность в сравнении с ними: признавал свое «стихотворство чем-то неуместным, даже неподобающим», а гнев отца справедливым, с радостью променял бы «Тонио» на «Генриха» или «Вильгельма».
Автор мимоходом обозначает еще одну причину появления столь амбивалентного характера, соответствующую уже духу социальных традиций критического реализма, — вырождение бюргерства: «Старинный род Крегеров, мало-помалу вырождавшийся, пришел в полный упадок, и люди не без основания видели подтверждение этому в образе жизни и повадках Тонио». Но он лишь проводит едва заметную, едва уловимую связь между одним и вторым, его мало волнует, что же случилось с этим слоем, что отдельные его представители, к таковым, кроме Тонио, можно отнести, например, еще и Ганно из «Будденброков», не желают, да и не способны, идти по стопам отцов и дедов и все чаще укрываются от рушащегося мира под сенью искусства. Объяснить это можно очень просто — художественным методом писателя, в котором, как он сам признавался, метафизическое было несравненно важнее, чем социальное, последнее всегда оставалось на обочине, на передний план выходил «анализ духовных взаимоотношений и духовных качеств человека». Вот почему антагонизм героя представлен просто-напросто как рок, как неизбежное следствие необъяснимого дара познания и творчества, оборачивающегося между тем проклятием, ведущим к саморазрушению. Непримиримые противоречия в человеке, его мятущаяся душа — единственный здесь предмет интереса автора. Поэтому и традиции классической литературы XIX века, в том числе русской, нашли свое отражение прежде всего в характере психологизма этой новеллы.
«Тонио Крегер» — это настоящий «сплав» писательских мастерских. Психологическая конструкция этой новеллы зиждется на целом пласте художественных средств Льва Толстого. В центре лежит его явная психология — эмоции, чувства, переживания, то и дело подмечаемые и обозначаемые автором («У Тонио временами дрожал подбородок и щекотало в носу от желания заплакать; он удержался от слез только усилием воли»), — психология, непозволяющая спрятаться от них под очередной «маской». Персонаж Манна буквально соткан из внутренних монологов, рефлексий, не отпускающих его ни на миг, болезненно сопутствующих ему везде и всюду — в непрерывных, неотступных поисках себя, своего пути, в самопознании, самоосознании. Образ, внутренний мир, трагедия Крегера всецело обнажены в одних лишь раздумьях, разрывающих изнутри переживаниях. А это уже Чехов. Причем это непрекращающееся течение мысли, слова своего героя писатель в весьма значительной их части вкладывает в свои собственные уста, тем самым будто лишний раз подчеркивая, что боль Тонио — его боль, что он — главный хранитель сокровенных тайников души своего героя; речь от Тонио и речь от автора сплетается в один неразматываемый клубок: «Зачем, зачем он здесь? Зачем он не сидит у окна в своей комнате за чтением «Иммензее» Шторма, время от времени вглядываясь в сумеречный сад, где тяжко потрескивает старый орешник. Там его место. Пусть другие танцуют весело и ловко!.. Нет, нет, его место все-таки здесь, здесь он поблизости от Инге… Какие у тебя миндалевидные голубые, смеющиеся глаза, белокурая Инге!» Именно в монологах, которые герой не перестает вести всю свою жизнь, и обнаруживается толстовская «диалектика души» — путь Тонио от высокомерного осознания убогости окружающей жизни до признания в любви к ее банальности и обыденности. Вся эта «картина», написанная широкими «мазками» терзаний, сомнений, раздумий, пропитана «рассыпанным» на страницах чеховским ощущением тотального одиночества, тон которому задается рассказом Тонио о тронувшей его пьесе Шиллера «Дон Карлос»: «Он ведь так одинок всегда. Никто его не любит. И вот ему показалось, что он наконец нашел человека, а этот человек предал его…» Свои ощущения от прочитанного он описывает так: «ты прямо взвиваешься, словно от удара кнутом». Вот на что Тонио в свои совсем юные годы, когда у него еще был друг, когда он еще не разошелся с окружающими его людьми на расстояние непреодолимой пропасти, откликнулся наиболее живо, вот с чем он почувствовал свое внутреннее, душевное родство. Быть может, интуитивно.
В это время к нему начинает приходить понимание того, что именно эта глубокая погруженность в «Иммензее» Шторма и «Дон Карлоса» Шиллера разводит его с товарищами по разные стороны «баррикад». Обособленный ото всех мир Тонио, его юношеские пристрастия обозначают пробуждающийся в нем дар поэзии, дар, который в силу своей роковой природы, как склонен считать автор, неизбежно отделяет его от людей, трагически вырывает из привычной среды, нормального течения жизни, и вот он уже стоит особняком: «...такой красивой и радостной, как ты, можно быть только не читая «Иммензее» и не пытаясь создать нечто подобное...» Возможность движения по жизни столь же весело и беззаботно для Тонио, кажется, навсегда преграждена этим самым даром, открываемыми им горизонтами и высотами духа. Он еще мальчиком, несмотря на слабость, хрупкость «ростков» его иного, непохожего на других «Я», приступы ошибочных терзаний своей неправильностью, замечает, что презирает «своих товарищей и учителей, впрочем и без того внушавших ему отвращенье дурными манерами и мелкими слабостями». Ему и окружающим не достучаться друг до друга, они отвержены друг другом: Тонио вовлечен в «игры духа», которые невидимы, призрачны, недостижимы для других, вынесены за пределы их реальности. «Да нет уж, Тонио, куда мне! Лучше я останусь при своих книгах о лошадях», — отвечает Ганс на восхищения Тонио по поводу «Дон Карлоса». Вот тут-то и начинается настоящее обособление Крегера от окружающих. Полным уходом в занятия поэзией он заменяет, как полагает, изначально заложенную в искусстве отъединенность от жизни, отдельность от людей. Однако чем глубже он погружается в «миры духа», тем не просто становится дальше от повседневного, будничного, усредненного человеческого бытия, но все с большими надменностью и презрением отворачивается от него.
В конечном итоге путь служения духу слова, который он избрал или который его избрал, привел Тонио в безысходный тупик, равный по своей сути точке отсчета его жизненного пути: в зрелые годы, так же как и в детстве, «в кругу простодушных и веселых, но темных разумом его не терпели». Свою изоляцию от общества он мог компенсировать лишь бездушными утехами плоти, которые, конечно, не могли удовлетворять его бесконечно. Это были годы мнимой близости, общения без дружбы, страсти без любви. А искусство, долго отрезанное от «живого и обыденного», естественного, однажды и само перестает жить, превращаясь в абстракцию, изысканную, но искусственную конструкцию, постепенно теряет доступ к истинному, глубокому, вечному, настоящему и в конце концов разрушает саму личность: «в жизни же бродил серый и невзрачный, точно актер, только что смывший грим, — ничтожество вне театральных подмостков». Это была почти безвоздушная, мертвая атмосфера: «А что же было все то время, когда он становился тем, чем был теперь? Оцепенение, пустота, лед и — дух». Только «наследие» отца, подспудно жившее в Тонио, не дало ему «задохнуться» окончательно («Какой ложный путь!» — восклицает он). Не случайно добропорядочный и благочестивый образ родителя постоянно возникает в воспоминаниях героя. Недаром в отроческие годы Ганса он во многом любил за то, что тот был его абсолютной противоположностью и полностью соответствовал требованиям бюргерского общества, — за то, чего ему не хватало в себе самом: «Ганс Гансен прекрасно учился, был отличным спортсменом... и пользовался общей любовью», хотя при этом всячески дорожил своей особостью, даже не помышлял о том, чтобы ее лишиться, ведь «он не делал попыток стать таким, как Ганс Гансен, а может быть, и не хотел этого всерьез», ведь несмотря на самоосуждение своего стихотворчества как чего-то неприличного, неуместного в своей среде, он все-таки продолжал писать. Поэтому за глотком свежего воздуха и надеждой возрождения он едет туда, где родился, где вырос, с чем навеки связан, хотя бы своим происхождением. За годы, проведенные в «низинах чувственности» и высотах духа, он истосковался по здоровым радостям существования, по даром потраченным дням — по всему тому, что олицетворяет собой уклад жизни типичного бюргера: «Он томился чистоте, пристойной мирной жизни». Он вдруг осознает, что только через обретение искренней дружбы, действенной любви, через проживание банально-простодушных радостей можно стать подлинным художником, превратиться из просто литератора в настоящего поэта — мастера, владеющего словом в наивысшей, совершеннейшей степени, сделать свое искусство «целительным, очищающим, спасительным», ведущим к «всепониманию, к всепрощению и любви», «согреть» себя и тех, кто вокруг. Но, проезжая по местам своего детства, наблюдая за объектами своей юношеской любви, он с новой силой ощущает свою чуждость этой жизни, вновь чувствует себя отвергнутым ею, несмотря на то что здесь его корни, истоки, основания: «Ингеборг следовало бы прийти, заметить, что он ушел, тайком прокрасться за ним и, положив руку на плечо, сказать: «Пойдем к нам! Развеселись! Я люблю тебя!..» Но она не пришла. Ничего такого не случилось. Все было как тогда...» Но после свершившегося откровения он уже не может вернуться к той пустой, мертвенной жизнью, которую вел до этого. И вот Крегер снова на перекрестке двух дорог, снова обречен метаться между двумя своими полюсами: Севером и Югом, бюргером и цыганом, жизнью и духом: «Он... видел самого себя, снедаемого иронией и духом, изнуренного и обессиленного познанием, изнемогшего от жара и озноба творчества... мечущегося между святостью и огнем чувственности, удрученного холодной экзальтацией, опустошенного, измученного, больного, заблудшего...»
В письме к своей подруге Лизавете Ивановне он, цитируя Писание, косвенно называет свои стихи «гудящей медью и кимвалом бряцающим». Сам того не замечая, он указывает себе выход из неотступно преследующего его тупика, пусть даже предопределенного призванием быть поэтом, выход, который выше даже этого. Ведь мимоходом ссылаясь в своих размышлениях, казалось бы, просто на одну из книг, он невольно обращается к тому Знанию (по-видимому, хорошо ему знакомому, но остававшемуся до сих пор невостребованным), что хранит в себе отыскиваемый им всю жизнь, сознательно или нет, путь к столь необходимой ему как творцу и человеку любви, любви, которую искусство заменило ему высокомерием, путь ее взращивания и напитывания живительной силой. Интуитивно, быть может, он даже его уже и принял. Ведь новый, нарождающийся в своем воображении мир он стремится «отливать» в формы, руководствуясь лишь этим чувством: «Но самая глубокая, тайная моя любовь отдана белокурым и голубоглазым, живым, счастливым, дарящим радость, обыкновенным». Но только в случае полного осознания им спасительности этого выхода последний станет его ориентиром, не позволящим снова сбиться с дороги, остаться наедине со своей любовью, превратить ее в призрачную, мифическую музу, ограничиться замкнутым на них двоих миром.
Автор: Игорь Ушкалов